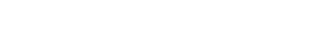Потсдамская конференция
01.09.2020 | Журнал «Стратегия России»ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО 1945-ГО.
ПОТСДАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Проект Вячеслава НИКОНОВА
18 июля. Среда
Трумэн и Черчилль договорились утром позавтракать в английской резиденции. «Утром 18–го после совещания с моими советниками, я пешком пошел в резиденцию британского премьера, чтобы нанести ответный визит», – писал Трумэн.
Черчилль хорошо запомнил эту встречу и возникшие у него мысли и эмоции: «18 июля я завтракал с президентом. Мы бы одни и затронули многие темы. Я говорил о печальном положении в Великобритании, израсходовавшей более половины своих иностранных капиталовложений на общее дело, когда мы боролись совсем в одиночку, и теперь вышедшей из войны с большим внешним долгом в три миллиарда фунтов стерлингов. Нам придется попросить помощи для того, чтобы снова стать на ноги, а до тех пор, пока мы не сумеем как следует наладить свое хозяйство, мы не сможем оказать особенной помощи в обеспечении всемирной безопасности или в осуществлении высоких целей, намеченных в Сан–Франциско…
Президент затронул вопрос об авиации и коммуникациях. Ему пришлось столкнуться с большими трудностями в вопросах создания аэродромов на британской территории, в особенности в Африке, на строительство которых американцы затратили огромные средства. Мы должны пойти им навстречу в этом отношении и разработать справедливый план общего их использования…
Я стал излагать ему мысль, которая у меня явилась уже давно, о необходимости сохранить объединенный англо–американский штаб как организацию, во всяком случае, до тех пор, пока мир окончательно не успокоится после великого шторма…
Президент ответил на это весьма утешительно. Я видел, что передо мной человек исключительного характера и способностей, взгляды которого в точности соответствовали установившемуся направлению англо–американских отношений, у которого была простая и ясная манера речи, большая уверенность в себе и решительность».
Но, конечно, речь зашла и о бомбе. «До сих пор мы мыслили себе наступление на территорию собственно Японии при помощи массовых воздушных бомбардировок и вторжения огромных армий, – писал Черчилль. – Сейчас вся эта кошмарная перспектива исчезала…
Кроме того, нам не нужны будут русские. Окончание войны с Японией больше не зависело от участия их многочисленных армий. Нам не нужно было просить у них одолжений. Через несколько дней я сообщил Идену: «Совершенно ясно, что Соединенные Штаты в настоящее время не желают участия русских в войне против Японии»…
Внезапно у нас появилась возможность милосердного прекращения бойни на Востоке и гораздо более отрадные перспективы в Европе. Я не сомневался, что такие же мысли рождались и в голове у моих американских друзей. Во всяком случае, не возникало даже и речи о том, следует ли применить атомную бомбу. Возможность предотвратить гигантскую затяжную бойню, закончить войну, даровать всем мир, залечить раны измученных народов, продемонстрировав подавляющую мощь ценой нескольких взрывов, после всех наших трудов и опасностей казалась чудом избавления…
Окончательное решение теперь должен был принять президент Трумэн, в руках которого находилось это оружие. Но я ни минуты не сомневался, каким будет это решение, и с тех пор я никогда не сомневался, что он был прав… Решение об использовании атомной бомбы для того, чтобы вынудить Японию капитулировать, никогда даже не ставилось под сомнение. Между нами было единодушное, автоматическое, безусловное согласие, и я также никогда не слыхал ни малейшего предположения, что нам следовало бы поступить иначе».
Обсудили и вопрос о том, как информировать об этом историческом событии Сталина. «Как сообщить ему эту весть? Сделать это письменно или устно? Сделать ли это на официальном или специальном заседании, или в ходе наших повседневных совещаний, или же после одного из таких совещаний? Президент решил выбрать последнюю возможность.
– Я думаю, – сказал он, – что мне следует просто сказать ему после одного из наших заседаний, что у нас есть совершенно новый тип бомбы, нечто совсем из ряда вон выходящее, способное, по нашему мнению, оказать решающее воздействие на волю японцев продолжать войну.
Я согласился с этим планом».
Беседы о бомбе между Трумэном и Черчиллем теперь происходили практически ежедневно.
А в 11 утра 18 июля началось первое заседание министров иностранных дел. Председательствовал Бирнс. По его инициативе расширили компетенцию СМИД, вменив ему еще и «подготовку мирного урегулирования для Германии». По настоянию Молотова было решено после создания СМИД в составе пяти стран сохранить и трехсторонний «ялтинский» формат встреч министров иностранных дел.
А кортеж Трумэна к трем часам дня прибыл к резиденции Сталина.
Сначала обед с неизменными тостами, после чего два лидера уединились для конфиденциальной беседы. Сталин ознакомил Трумэна с содержанием послания императора Японии с пожеланиями прекратить войну и письмами с предложениями принять принца Коноэ в Москве. Президент не стал раскрывать, что американцы давно расшифровали японские дипломатические коды и были в курсе инициатив Токио. Сталин поинтересовался у президента, как ему поступить: ответить в общей форме, не отвечать вообще или отвергнуть предложение о диалоге. Трумэн высказался за первый вариант.
Налицо было стремление Вашингтона держать СССР подальше от дальневосточной дипломатии.
Трумэн поведал дневнику 18 июля: «Премьер-министр и я позавтракали вместе наедине. Обсуждали Манхэттен (это был успех). Решили сказать Сталину об этом. Сталин рассказал премьер-министру о телеграмме японского императора с просьбой о мире. Сталин тоже прочитал мне свой ответ. Он был удовлетворительный. Я верю, что японцы сдадутся, прежде чем вступит Россия. Я уверен, что они сделают это, когда Манхэттен появится над их страной. Я проинформирую Сталина об этом в подходящее время».
А в Москве в тот день заместитель наркома иностранных дел С.А. Лозовский передал ответ советского правительства на послание из Токио. В нем указывалось, что «высказанные в послании императора Японии соображения имеют общую форму и не содержат каких-либо конкретных предложений. Советскому Правительству представляется неясным также, в чем заключаются задачи миссии князя Каноэ. Ввиду изложенного Советское Правительство не видит возможности дать какой-либо определенный ответ по поводу миссии князя Каноэ, о которой говорится в вашей ноте от 13 июля».
Второе заседание глав правительств открылось заявлением Черчилля:
– В Берлине собралось около 180 корреспондентов, которые бродят по окрестностям в состоянии неистовства и возмущения.
– Это целая рота. Кто их сюда пропустил? – поинтересовался Сталин, прекрасно зная, что даже комар не проскочит сквозь оцепление в Потсдам, не то, что журналист.
– Конференция могла бы успешно работать только в обстановке спокойствия и секретности, – уверял Черчилль, – которые нужно соблюдать любой ценой, и я предложил встретиться с представителями печати самому и объяснить им, почему их приходится не пускать и почему ничего нельзя разглашать до окончания конференции.
Но том и порешили.
Черчилль продолжал в воспоминаниях: «Затем министры иностранных дел представили свой план разработки европейских мирных договоров. Совет по–прежнему будет состоять из министров иностранных дел пяти держав, перечисленных президентом. Но только те страны будут участвовать в составлении договора, которые подписали условия капитуляции, навязанные данному вражескому государству...
Затем подошли к вопросу о Германии. Вопрос о конкретных полномочиях Контрольного совета, экономические вопросы, вопрос о судьбе нацистского флота не были готовы к обсуждению.
– Что подразумевается под Германией? – спросил я.
– То, что от нее осталось после войны, – сказал Сталин.
– Германия 1937 года, – сказал Трумэн.
Сталин сказал, что от войны никуда не денешься. Страны больше не существует. Нет ни определенных границ, ни пограничной охраны, ни войск, а есть лишь четыре оккупационные зоны. В конце концов, мы договорились принять в качестве отправной точки Германию 1937 года. Это откладывало окончательное решение проблемы, и мы обратились к Польше».
«Сталин предложил немедленно передать люблинским полякам «все активы, фонды и всякую другую собственность, которая принадлежит Польше и еще находится в распоряжении польского правительства в Лондоне». Он также хотел, чтобы польские вооруженные силы, в том числе военно-морской флот и торговый флот, были переданы люблинским полякам. Это заставило меня выступить с довольно пространной речью…
В Германии находилось около 30 тысяч польских войск, а в Италии – польский корпус из трех дивизий, среди которых происходило брожение умов и которые пребывали в подавленном моральном состоянии. Эта армия, насчитывающая, включая фронтовые и тыловые части, более 180 тысяч человек, сражалась как в Германии, так и в Италии, проявив исключительную храбрость…
Сталин с этим согласился, и я заявил далее, что наша политика состоит в том, чтобы убедить как можно больше поляков, и не только солдат, но и гражданских служащих бывшего польского правительства, вернуться в свою страну. Но нам надо немного времени для того, что преодолеть стоящие перед нами трудности…
Сталин затем предложил передать всю проблему министрам иностранных дел.
– В том числе и выборы, – сказал я.
– Временное правительство никогда не отказывалось провести свободные выборы, – ответил Сталин».
Вечером 18 июля Черчилль ужинал со Сталиным. «С нами были только Бирнс и Павлов. Мы приятно беседовали с половины девятого вечера до половины второго ночи, не затронув ни одной из наиболее важных тем. Мой хозяин казался физически несколько подавленным, но его легкая дружелюбная манера держаться была в высшей степени приятной. Об английских выборах он сказал, что вся информация, которую он получал из коммунистических и других источников, подтверждает его уверенность, что меня изберут большинством почти в 80%. По его мнению, лейбористская партия должна получить 220-230 мест. Я не пытался пророчествовать, но сказал, что не уверен в том, как голосовали солдаты. Сталин сказал, что армия предпочитает сильное правительство и поэтому, видимо, голосовала за консерваторов. Было ясно, что он надеялся, что его связи со мной и Иденом не будут прерваны.
Он спросил, почему король не приехал в Берлин. Я ответил, что… его приезд осложнил бы проблемы безопасности. Затем он заявил, что ни одной стране так не нужна монархия, как Великобритании, ибо королевская власть служит объединяющей силой для всей империи, и никто из друзей Англии не сделает ничего, что ослабило бы уважение к монархии…
Я сказал, что согласно моей политике следует приветствовать Россию в качестве великой морской державы. Россия до сих пор напоминала гиганта, перед которым закрыты широкие пути и которому приходится пользоваться узкими выходами через Балтийское и Черное моря. Затем я затронул вопрос о Турции и Дарданеллах. Естественно, что турки тревожатся. Сталин объяснил. Турки обратились к русским с предложением заключить договор о союзе. В ответ русские заявили, что договор можно заключить лишь в том случае, если ни одна из сторон не имеет никаких притязаний, а Россия хочет получить Карс и Ардаган, которые у них отобрали в конце прошлой войны. Турки ответили, что они не могут рассматривать этот вопрос. Тогда Россия поставила вопрос о конвенции в Монтрё. Турки ответили, что они и этого вопроса не могут обсуждать, и поэтому Россия заявила, что она не может обсуждать договор о союзе.
Я сказал, что я лично поддержал бы внесение поправок в конвенцию в Монтрё, исключив из нее Японию и дав России доступ в Средиземное море. Я повторил, что приветствовал бы выход России в океаны…
Затем Сталин спросил меня о германском флоте. Он сказал, что какая-то часть этого флота была бы весьма полезна России, понесшей тяжелые потери на морях. Я не возражал.
Далее он заговорил о греческой агрессии на границах Болгарии и Албании. Он сказал, что в Греции есть элементы, подстрекающие к волнениям. Я ответил, что положение на границах неопределенное и что греков очень тревожат Югославия и Болгария, но я не слышал, чтобы там происходили сколько-нибудь серьезные бои…
Сталин сказал, что во всех странах, освобожденных Красной Армией, русская политика состоит в том, чтобы добиваться создания сильного, независимого суверенного государства. Он против советизации какой бы то ни было из стран. Там будут проведены свободные выборы, в которых будут участвовать все партии, за исключением фашистских.
Далее я заговорил о трудностях в Югославии, где у нас нет материальных притязаний, но где предусматривалось деление наших интересов поровну. Соотношение там не 50:50, а 99:1 не в пользу Англии. Сталин утверждал, что соотношение там таково: 90% в пользу Англии, 10% в пользу Югославии и 0% в пользу России. Советское правительств часто не знает, что собирается предпринять Тито.
Сталин также заявил, что он был уязвлен американскими требованиями сменить правительства в Румынии и Болгарии. Он не вмешивается в греческие дела, и поэтому американцы поступают несправедливо. Когда я спросил, почему советское правительство наградило короля Михая орденом, он сказал, что, по его мнению, король действовал храбро и разумно во время государственного переворота.
Я затем рассказал ему, как беспокоят людей намерения русских. Я провел линию от Нордкапа до Албании и перечислил столицы восточнее этой линии, оказавшиеся в руках русских. Создалось впечатление, что Россия движется на запад. Сталин сказал, что у него нет такого намерения. Напротив, он отводит войска с запада. В ближайшие четыре месяца будет демобилизовано и отправлено на родину 2 миллиона человек. Дальнейшая демобилизация будет зависеть лишь от транспортных возможностей. Затем он извинился за то, что официально не поблагодарил Англию за помощь в снабжении во время войны. Россия приносит благодарность за это.
В ответ на мои вопросы он разъяснил систему труда в совхозах и колхозах. Мы согласились, что и в России, и в Англии нет угрозы безработицы. Он сказал, что Россия готова обсудить вопрос о торговле с Англией. Я заявил, что самой лучшей рекламой для Советской России за границей было бы счастье и благосостояние ее народа. Сталин говорил о преемственности советской политики. Если с ним что-то случится, то имеются хорошие люди, готовые встать на его место. Он думал на тридцать лет вперед».
19 июля. Четверг
На утреннем заседании министров иностранных дел Молотов согласился с участием Франции в подготовке мирного договора с Италией, представил советские проекты решений по разделу германского флота и разрыву отношений с режимом Франко, предложил ускорить процесс ликвидации эмигрантского польского правительства. На ланч он пожаловал к Идену, которого удивило большое количество охраны гостя, которая «расположилась с автоматами в саду. И даже после этого он пожаловался на недостаточность охраны, когда появились фотографы, хотя о них просили его люди. Должно быть, невесело проводить жизнь с такой охраной. Не удивительно, что этот человек представляет собой самую способную и самую беспощадную автоматику».
На заседании лидеров Сталин подхватил тему раздела флота:
– Я бы хотел, чтобы была внесена ясность в вопрос о том, имеют ли русские право на 1/3 часть военно-морского и торгового флота Германии? Мое мнение таково, что русские имеют это право.
– Я поддерживаю желание генералиссимуса Сталина, чтобы русские получили часть флота Германии, и считаю, что другой исход – это только потопить весь флот, – поспешил заверить Черчилль.
На самом деле англичане и американцы, похоже, и не собирались с самого начала делиться с Москвой. «Я был согласен с позицией Адмиралтейства, что флот лучше было затопить. Но ни в каком случае мы не должны были отдавать ни одного оказавшегося в нашем распоряжении германского корабля до удовлетворения наших интересов, которые русские не уважают в странах, оказавшихся под их контролем», – замечал Иден.
На третьем заседании весьма характерным стало обсуждение по инициативе советской стороны вопроса об Испании. Франко был союзником Гитлера, испанская голубая дивизия воевала против Советского Союза в рядах нацистов. Сталин также напомнил, что режим Франко был насажден в Испании фашистскими Германией и Италией и предложил союзникам хотя бы не поддерживать с ним отношения.
Трумэн вспоминал: «Я дал понять, что не испытываю любви к Франко, но у меня также нет желания начать еще одну гражданскую войну в Испании. В Европе было достаточно войн. Я сказал, что был бы рад признать другое правительство в Испании, но Испания сама должна решить этот вопрос. Черчилль поддержал возражение против разрыва отношений. Он сделал ссылку на ценные торговые связи, которые Британия поддерживала с Испанией.
Сталин предложил, чтобы министры иностранных дел попытались найти возможность дать понять, что главам трех правительств не нравится правительство Франко». Англо-американцы ничего не сделали раньше, чтобы помочь республиканцам в Испании (скорее, они симпатизировали Франко в его борьбе с «красной заразой»), а теперь не видели ничего зазорного в поддержании отношений с фашистским правительством в Мадриде. Но не хотели признать правительства Болгарии или Румынии по причине их «недемократичности».
Черчилль предложил обсудить вопрос о Югославии. Сталин не понимал, как можно рассматривать дела союзной страны без ее участия. Перепалка советского и британского лидеров на эту тему утомила Трумэна. «Я откровенно сказал им, что я не желаю тратить время, выслушивая жалобы, а хотел бы заняться проблемами, которые главы трех правительств приехали решать. Я сказал, что если они не вернутся к основным вопросам, я упакую вещи и уеду домой. Я имел в виду именно это.
Сталин искренне улыбнулся и сказал, что не винит президента за желание вернуться домой: ему тоже хотелось бы уехать домой».
«Третье и четвертое заседания Потсдамской конференции были посвящены различным вопросам, и ни по одному не было принято определенных решений, – вспоминал Черчилль. – Сталин хотел, чтобы Объединенные Нации прекратили всякие отношения с Франко «и помогли демократическим силам в Испании» установить режим, «приемлемый для испанского народа». Я воспротивился этому предложению, и, в конце концов, вопрос был снят. Вопросы о судьбе германского военно-морского и торгового флота, условия мира с Италией и оккупация союзниками Вены и Австрии также вызвали дискуссию и не были решены. Большинство проблем было передано нашим министрам иностранных дел для изучения и доклада. Моя политика состояла в том, чтобы отложить эти вопросы, а затем заняться их решением после того, как будут известны результаты наших выборов».
После третьего дня заседаний участники конференции переместились в Маленький Белый дом Трумэна, который дал ужин. Сам неплохой музыкант, Трумэн организовал вечер-концерт. «Музыку исполнял специальный концертный оркестр, – напишет американский президент. – Пианист, сержант Юджин Лист, сыграл великий вальс ля–бемоль мажор, опус 42 Шопена и несколько его ноктюрнов. Черчиллю не очень была по душе такая музыка. Сталину же так понравился вальс Шопена и ноктюрны, что он поднялся из-за стола, подошел к сержанту Листу, пожал ему руку, выпил за него тост и попросил сыграть еще. Премьер-министр тоже похвалил Листа. Я также принял участие в музыкальной программе, сыграв менуэт Падеревского, один из моих любимых. Зная заранее, что Сталин любил Шопена, я попросил сержанта Листа порепетировать именно Шопена. Он репетировал целую неделю до этого ужина. Пианино было не лучшим концертным инструментом, но и на нем Лист сделал очень хорошую работу…
Это была первая из нескольких неформальных встреч глав трех государств. Эти социальные события помогли поддерживать дружественную атмосферу между людьми, которые прибыли в Берлин, чтобы решить проблемы, которые для своего решения требовали наибольшего сотрудничества».
20 июля. Пятница
20 июля Молотов председательствовал на министерской встрече. Основные споры вызвала ситуация в Румынии и Болгарии, правительства которых западные страны отказывались признавать. Бирнс и Иден объясняли это тем, что там «имеются ограничения для прессы».
– Ввиду окончания войны возможности работы представителей прессы могут значительно расшириться, – уверял Молотов.
– Надо заключить соглашение трех держав о проведении наблюдения за ходом выборов в Италии, Греции, Румынии, Болгарии, Венгрии и об обеспечении в этих целях свободного допуска в эти страны представителей прессы, – предложил Бирнс.
– Не вижу необходимости в посылке специальных наблюдателей в Румынию и Болгарию, – парировал Молотов.
Бирнс торопил с приемом в ООН Италии, Иден – нейтралов: Швеции, Швейцарии и Португалии. Молотов лоббировал бывших восточноевропейских сателлитов Германии, становящихся союзниками СССР. Западные партнеры настаивали на том, что это может произойти только после подписания с ними мирных договоров.
Трумэн в тот день присутствовал на церемонии поднятия звездно-полосатого флага над штаб-квартирой американской контрольной комиссии в Берлине. После чего вновь – в 16.05 – занял председательское кресло.
Молотов доложил о результатах заседания министров. Было определено место нахождения постоянного секретариата СМИД – Лондон.
– Я хочу напомнить, что Лондон является той столицей, которая больше других находилась под огнем неприятеля во время войны, – рекламировал его Черчилль. – Кроме того, он находится на полдороге между США и Россией.
– Это самое главное, – под общий смех согласился Сталин.
Далее советский лидер принялся защищать Румынию, Венгрию, Финляндию и Болгарию.
– Мы должны оторвать от Германии ее бывших союзников. Не будем мстить на основе того, что они причинили нам большой ущерб. Пора перейти к другой политике – к политике облегчения их положения.
Трумэн запомнил: «Сталин продолжал долго говорить. Пожалуй, это была самая его длинная речь за всю конференцию. Он никогда не использовал записи, хотя время от времени мог повернуться к Молотову или Вышинскому. Он говорил около пяти минут. После чего Павлов переводил. Сталин точно знал, что он хотел сказать и чего хотел добиться. Он говорил в спокойной, незадевающей манере».
Некоторые вопросы Сталину и Трумэну удалось решать на полях конференции, не вынося их на общее обсуждение. Так, в тот день, 20 июля, Трумэн писал Сталину: «В настоящее время воздушное сообщение между Соединенными Штатами и СССР осуществляется через Тегеран. Соединенные Штаты организовали теперь воздушную транспортную авиалинию до Берлина для правительственных перевозок, которая могла бы быть использована и для советских правительственных перевозок. Поэтому я прошу Вашего согласия переменить направление американских и советских перевозок, осуществляемых ныне через Тегеран, и осуществлять их впредь через Берлин». Сталин не возражал.
21 июля. Суббота
На заседаниях 21 июля центральным стал вопрос о западной границе Польши. Советское предложение на этот счет Молотов передал коллегам–министрам утром. Западные партнеры были категорически против продвижения границ Польши до Западной Нейсе и обвиняли СССР в поощрении польской экспансии в Померанию, считая это польской оккупацией. Споры продолжатся на встрече лидеров, один из которых оказался в сильно приподнятом настроении.
Днем 21 июля в Потсдам специальным курьером был доставлен полный отчет генерала Гровса об испытании атомной бомбы. 12-страничный документ о взрыве в Аламогордо потряс сознание даже видавших виды военных, не говоря о президенте. «То, что было видно из убежища, невозможно описать словами. Все мгновенно поняли, что мощность взрыва намного превышает самые оптимистические ожидания и самые невероятные надежды ученых. Все почувствовали, что присутствуют при начале новой эры. Эффекты можно без преувеличения назвать беспрецедентными, волшебными, прекрасными, громадными и ужасными».
Энергия была эквивалентна взрыву 15-20 тысяч тонн тринитротолуола. Стимсон, взявший на себя приятную миссию перед вечерним заседанием вручить отчет Трумэну и Бирнсу, так запомнил их реакцию: «Доклад вызвал у них приподнятое состояние духа. Президент был невероятно оживлен и снова и снова обращался ко мне с вопросами, пока я находился рядом. Он сказал, что доклад Гровса вызвал в нем прилив совершенно нового чувства уверенности».
Сталин и Черчилль почувствовали это уже вечером при обсуждении вопроса о восстановлении дипломатических отношений союзников с новыми правительствами Румынии, Болгарии и Венгрии. Трумэн категорически отказался это сделать, пока они «должным образом» не будут реорганизованы, т.е. не освободятся от «тисков» советского влияния. Столь же непримиримую позицию президент занял и по вопросу о границах Польши.
– Окончательно вопрос должен быть решен на мирной конференции, – считал Трумэн.
– В решениях Ялтинской конференции было сказано, что Польша должна получить существенные приращения своей территории на севере и западе, – напоминал Сталин.
– Но у нас не было никакого права предоставлять Польше зону оккупации.
О последовавшей дискуссии детально поведал Черчилль:
« – Мы должны придерживаться зон, о которых мы договорились в Ялте, – сказал президент. – Если мы не сделаем этого, то будет трудно решать вопрос о репарациях и всякие другие вопросы.
– Репарации нас не беспокоят, – сказал Сталин.
– Соединенные Штаты не будут получать репараций, – ответил Трумэн, – но они будут также стараться избегать каких-либо платежей.
– В Ялте не было ничего точно определено относительно западной границы, – сказал Сталин. – Никто из нас не связан.
Это была правда. Президент указал, что, по его мнению, мы не можем решить этот вопрос сейчас. Нам придется подождать до мирной конференции.
– Будет еще труднее восстановить германскую администрацию, – сказал Сталин.
Польша, сказал я, заслуживает компенсации за земли восточнее линии Керзона, которые она отдаст России, но сейчас она требует больше того, что она отдала. Компенсация должна быть соразмерна потере. Польша не получит никакой выгоды, приобретая так много дополнительной территории. Если немцы бежали оттуда, то им следует разрешить вернуться обратно. Поляки не имеют права ставить под угрозу снабжение немцев продовольствием…
– Германии всегда приходилось импортировать продовольствие, – сказал Сталин. – Пусть она покупает его у Польши.
– Правительство Его Величества, – ответил я, – никогда не сможет согласиться с тем, чтобы восточноевропейская территория, оккупированная во время войны, стала польской.
– Но ее населяют поляки, – сказал Сталин, – и они обрабатывают землю. Мы не можем заставить их выращивать хлеб и отдавать его немцам…
Сталин сказал, что не возражает против того, чтобы создать трудности для немцев. Такова его политика, да к тому же это не даст им возможности начать новую войну. Лучше создавать трудности для немцев, чем для поляков, и, чем меньше промышленности будет у Германии, тем больше рынков будет у Англии».
Вечером 21 июля уже Сталин давал государственный ужин.
Трумэн сообщал домашним, что «это было вау! Начавшись с икры и водки, он закончился арбузом и шампанским. А между ними были копченая рыба, свежая рыба, оленина, цыпленок, утка и все виды овощей. Тосты были через каждые пять минут, пока не было выпито не менее двадцати пяти раз. Я ел мало и пил еще меньше, но это был колоритный и приятный прием…
Меня посадили рядом со Сталиным, и я обратил внимание, что он пил из крошечной рюмки, которую держал наполненной до краев. Он осушал ее часто и сам подливал себе из бутылки. Я предположил, что это водка, которую наливали всем остальным. И я удивился, как Сталин мог выпить так много такого сильного напитка. Наконец, я спросил его, он посмотрел на меня и усмехнулся. Потом наклонился к переводчику и произнес: «Скажите президенту, что это французское вино. После моего сердечного приступа я не могу пить так, как привык»».
И вновь ни слова о бомбе.
22 июля. Воскресенье
22–го было воскресенье. Но заседания решили не прерывать.
Стимсон записал в дневнике: «Черчилль прочитал доклад Гровса полностью и рассказал мне о вчерашней встрече большой тройки. По тому, как Трумэн энергично и решительно противился нажиму русских и отвергал их требования, он понял, что тот вдохновлен каким-то событием.
– Теперь я знаю, что с ним произошло, – сказал он. – Вчера я не мог понять, в чем дело. Когда он пришел на конференцию после прочтения доклада, это был другой человек. Он твердо заявил русским, на что он согласен, а на что нет, и вообще господствовал на этом заседании.
Черчилль добавил, что ему понятны причины такого оживления Трумэна, и он сам теперь испытывает то же».
Премьер действительно был в восторге. «Теперь мы можем сказать: если вы будете продолжать делать то или это, мы сможем стереть Москву, затем Сталинград, затем Киев, затем Куйбышев, Харьков, Севастополь и так далее, и так далее». Иден подтвердил, что в тот момент они совместно твердо решили «сбросить атомную бомбу на Японию, если она не примет безоговорочную капитуляцию».
Настроение в зале заседаний тоже заметно изменилось. Помощник военного министра Джон Макклой записал в дневнике: «Трумэн и Черчилль вели себя, как мальчишки со спрятанным у них большим красным яблоком». На перемену в поведении Трумэна обратил внимание и другой участник американской делегации Роберт Мерфи: «Теперь он стал говорить с русскими смело, в яркой и решительной манере, где им надо начинать и где продолжать, и вообще чувствовал себя хозяином положения».
Шестое заседание в 17.00 началось с весьма примирительно заявления Сталина:
– Сегодня советские войска начали отход в Австрии, им придется отойти в некоторых районах на 100 километров. Отход будет закончен 24 июля. В Вену уже вступили передовые отряды союзных войск.
Дежурная благодарность лидеров.
Резкий выпад Черчилля против продвижения на запад польской границы:
– Это не пойдет на благо Польше – иметь такую территорию. Это приведет к подрыву экономического положения Германии и возложит чрезвычайное бремя на оккупирующие державы в отношении снабжения западной части Германии продовольствием и топливом. У нас имеются, кроме того, некоторые сомнения морального порядка относительно желательности такого большого перемещения населения.
Трумэн поддакивал. Вопрос заходил в тупик.
« – В Тегеране, – сказал Сталин, – Рузвельт и Черчилль хотели, чтобы граница шла вдоль реки Одер и до того пункта, где в нее впадает Восточная Нейсе, а я настаивал на линии Западной Нейсе. Кроме того, Рузвельт и Черчилль собирались оставить Штеттин и Бреслау на германской стороне. Решим этот вопрос сейчас или отложим его?
Я тем временем размышлял над этими вопросами и теперь сказал, что нам следует сейчас же пригласить поляков на конференцию. Сталин и президент согласились, и мы решили послать им приглашение», – рассказывал Черчилль.
Сталин тоже решил не отступать и выстрелил по следующему вопросу, попросив предоставить слово Молотову как крупному специалисту по проблемам опеки.
– Конференция могла бы, во-первых, обсудить вопрос о колониальных владениях Италии в Африке и на Средиземном море и, во-вторых, вопрос о территориях, которые носят мандат Лиги наций.
Молотов заявлял претензии СССР на участие в решении судеб колоний. Сам он не был сторонником такой идеи, полагая, что Советский Союз не должен уподобляться колониальным империям. Но идея нравилась Сталину, который не терял надежду получить для СССР порт на южном берегу, поэтому пришлось Молотову стать крупным специалистом. Черчилль почувствовал подвох и заявил, что это прерогатива ООН. Иден возмущался в дневнике: «Правда состоит в том, что по каждому вопросу Россия пытается захватить все, что возможно, и она использует встречу, чтобы заграбастать как можно больше». Трумэн же, не обремененный заботой о чужих колониях, согласился обсудить их будущее.
– Господин Иден, выступая в английском парламенте, заявил, что Италия потеряла навсегда свои колонии, – заговорил Сталин. – Кто это решил? Если Италия потеряла, то кто их нашел?
– Я могу на это ответить, – взорвался Черчилль. – Постоянными усилиями, большими потерями и исключительными победами британская армия одна завоевала эти колонии.
– А Берлин взяла Красная Армия.
В советской стенограмме эти слова принадлежат Сталину, в американской – Молотову. В Потсдаме согласятся рассмотреть вопрос об итальянских колониях в связи с подготовкой мирного договора с этой страной.
И вновь советский премьер просит предоставить слово своему наркому, который представил документ о советской позицией по Турции.
– На предложение турецкого правительства заключить союзный договор был дан ответ, что советское правительство не возражает против заключения такого договора на определенных условиях. Заключение союзного договора означает, что мы должны совместно защищать наши границы. Однако в некоторых частях мы считаем границу между СССР и Турцией несправедливой. Действительно, в 1921 году от Советской Армении и Советской Грузии Турцией была отторгнута территория областей Карса, Артвина, Ардогана. Чтобы заключить союзный договор, следует урегулировать вопрос об отторгнутой от Грузии и Армении территории, вернуть им эту территорию обратно. Второй важный вопрос, который мы должны урегулировать, – это вопрос о Черноморских проливах. Мы неоднократно заявляли нашим союзникам, что мы не можем считать правильной конвенцию, заключенную в Монтрё. По этой конвенции права Советского Союза в Черноморских проливах такие же, как права японского императора.
– Это очень важный документ, и он идет гораздо дальше того, о чем мы говорили раньше, – удивился Черчилль.
– Но тогда не было и речи о союзном договоре.
– Я полагаю, что все другие подписавшие конвенцию стороны также будут запрошены.
– За исключением Японии, – пояснил Молотов.
– Речь идет о русской базе в проливах, а также о том, что никто не может иметь отношение к вопросу о Дарданеллах и Босфоре и проходе через них, кроме Турции и Советского Союза, – не скрывал возмущения Черчилль. – Турция никогда не согласится на это.
– Такие договоры между Турцией и Россией существовали и раньше, – пояснил Молотов.
– По которым Россия получала укрепленную базу в проливах?
– По которым вопрос о проходе через проливы решался только Турцией и Россией. Это – договор 1805 года и Ункяр–Искелессийский договор 1833 года.
Черчилль взял время для изучения вопроса. В завершении бурной дискуссии того дня Молотов поднял вопрос об английском лагере военнопленных бандеровцев в Италии:
– Когда советский представитель посетил этот лагерь, то там оказалось 10 тысяч украинцев, из которых английское командование составило целую дивизию. Было организовано 12 полков, в том числе полк связи и саперный батальон. Офицерский состав был назначен главным образом из бывших петлюровцев, которые раньше находились на командных постах в германской армии.
Черчилль уверил, что ни о чем подобном не слышал.
23 июля. Понедельник
Утром 23 июля Молотов встретился наедине с Бирнсом, чтобы начать обсуждение репарационного вопроса. Госсекретарь был недоволен тем, что поляки уже торговали углем, добываемым ими в советской зоне Германии.
– Хочу предложить, чтобы русские изымали репарации из своей зоны, так же как англичане, американцы и французы будут изымать репарации из своих зон.
– В этом случае Германия не будет рассматриваться как экономическое целое, – возразил Молотов.
– При решении всех других вопросов, как-то валютных и транспортных, Германия будет рассматриваться как экономическое целое.
Молотов не согласился. В тот день он председательствовал на формальной встрече министров и передал коллегам советские предложения по репарациям.
На повестке дня непростые вопросы: Турция, Кёнигсберг, Сирия и Ливан, Иран. Согласие достигли только по одному вопросу.
Вечером Молотов доложил о работе министров главам государств, которые в тот день решили один важный вопрос: о включении в состав СССР Кёнигсберга. Так возникла Калининградская область.
«На мою долю выпало устроить заключительный банкет вечером 23 июля, – вспоминал Черчилль. – Я решил устроить большой прием, пригласив основных командующих, так же как и делегатов. Я посадил президента по правую руку от себя, а Сталина – по левую. Произносилось много речей, и Сталин, даже не позаботившись, чтобы все официанты вышли из комнаты, предложил провести нашу следующую встречу в Токио…
Для разнообразия мы время от времени менялись местами, и президент сейчас сидел напротив меня. Я имел еще одну весьма дружескую беседу со Сталиным, который был в самом лучшем настроении и, видимо, не подозревал о той важнейшей информации относительно новой бомбы, которую сообщил мне президент. Он с энтузиазмом говорил о вступлении русских в войну против Японии и, видимо, предвидел еще много месяцев войны, которую Россия будет вести во все больших масштабах, ограничиваемых лишь пропускной способностью Транссибирской железной дороги.
Затем произошло нечто необычайное. Мой могущественный гость поднялся со своего места и с меню в руках стал обходить присутствующих и собирать у многих из них автографы. Мне никогда и в голову не приходило, что я могу его увидеть в роли любителя автографов! Когда он подошел ко мне, я написал свое имя по его просьбе, и мы, взглянув друг на друга, рассмеялись. Глаза Сталина светились весельем и добродушием… Советские представители всегда пили на банкетах из крошечных рюмок, и Сталин никогда не изменял этому обычаю. Но сейчас мне захотелось заставить его отойти от этого обычая. Поэтому я наполнил два небольших бокала коньяком для него и для себя. Я многозначительно взглянул на него. Мы одним духом осушили бокалы и одобрительно посмотрели друг на друга. После непродолжительного молчания Сталин сказал:
– Если вы сочтете невозможным дать нам укрепленную позицию в Мраморном море, может мы могли бы иметь базу в Деде-Агаче?
На это я ответил лишь:
– Я всегда буду поддерживать стремление России иметь свободу на морях в течение всего года.
Жуков запомнил другой эпизод с этого банкета: «Трумэн предложил первый тост за Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Советского Союза И.В. Сталина. В свою очередь И.В. Сталин предложил тост за У. Черчилля… Совершенно неожиданно У. Черчилль предложил тост за меня. Мне ничего не оставалось, как предложить свой ответный тост. Благодаря У. Черчилля за проявленную ко мне любезность, я машинально назвал его «товарищем». Тут же заметил недоуменные взгляды И.В. Сталина и В.М. Молотова, у меня получилась пауза, которая, как мне показалось, длилась больше, чем следует. Импровизируя, я предложил тост за «товарищей по оружию»… На другой день, когда я был у И.В. Сталина, он и все присутствовавшие смеялись над тем, как быстро я приобрел «товарища» в лице У. Черчилля».
24 июля. Вторник
24 июля в 11.30 у Трумэна состоялось совещание с участием Черчилля и военных – Леги, Маршалла, Кинга, Арнольда, Сомервелла, Брука, Портала, Каннингхэма и Исмейя. Обсуждали доклад Объединенного комитата начальников штабов о плане вторжения на Японские острова. В одном из первых пунктов решения было подтверждено намерение добиваться вступления СССР в войну против Японии.
Трумэн рассказывал: «Британские и американские начальники штабов проводили ежедневные встречи c момента нашего приезда в Потсдам и теперь предложили проект их итогового доклада Черчиллю и мне». В докладе подчеркивалось: «В сотрудничестве с другими союзниками добиться наиболее ранней даты нанесения поражения Японии… Вторжение в Японию и прямо с этим связанные операции будут главными операциями в войне против Японии. Вступление России в войну следует поощрять. Необходимая помощь для усиления ее военных возможностей для этого должна быть оказана. Планируемой датой окончания организованного сопротивления Японии следует считать 15 ноября 1946, и эта дата будет периодически уточняться в соответствии с ходом военных действий».
Получив напутствие президента, американские и английские командующие во главе с адмиралом Леги проследовали в зал заседаний для встречи с советскими военными представителями, чтобы, наконец, начать координировать планы войны против Японии. Первый вопрос, который Леги задал генералу армии Антонову, касался сроков вступления СССР в боевые действия. Начальник Генштаба ответил, что советские войска продолжают концентрироваться на границе с Манчжурией и окажутся готовыми к проведению широкомасштабных операций ко второй половине августа. «Точная дата, информировал он наших военных лидеров, будет зависеть от успешного завершения переговоров с китайцами.
Антонов определил российские цели на Дальнем Востоке как сокрушение японцев в Маньчжурии и оккупацию Ляодунского полуострова. После поражения Японии, сказал он, намерением Советов было вывести все русские войска из Маньчжурии… Генерал Маршалл затем информировал русских об общей диспозиции японских сил, насколько она была нам известна… Генерал Антонов проявил особый интерес к нашим возможным намерениям предпринять операции против Курил и Кореи». Союзники уверили в отсутствии у них таких планов.
24 июля в Потсдам прибыло польское руководство, которое было приглашено на утреннее заседание министров. Молотов выступил с большой речью, в которой, в частности, прозвучало:
– Советское правительство считает требование польского правительства перенести границу Польши на Одер, включая в состав Польши Штеттин, и на Западную Нейсе справедливым и своевременным. Германия должна быть оттеснена с этих захваченных ею польских земель, и эти земли должны быть переданы Польше по справедливости. Все поляки будут собраны в одном государстве – это вопрос, который мы решим, принимая предложения польского правительства.
Отмахиваться от требований СССР, поддержанных уже признанным польским правительством, западным державам становилось все труднее.
Затем польское руководство направилось к Черчиллю, который вспоминал: «В 15 часов 15 минут 24 июля представители временного польского правительства во главе с премьер-министром Берутом прибыли в мой дом на Рингштрассе. Я начал с того, что напомнил им, что Великобритания вступила в войну из-за того, что на Польшу было совершено нападение, и что мы всегда очень интересовались ею, но границы, которые ей сейчас предлагают и на которые она, по–видимому, хочет согласиться, означают, что Германия лишится одной части пахотных земель, которые она имела в 1937 году.
Берут возразил, что Великобритания совершила бы грубейшую ошибку, если бы, вступив в войну ради Польши, теперь не проявила понимания ее требований… Я напомнил ему, что до сих пор мы не могли сами установить, что происходит в Польше, поскольку она была закрытым районом… Я высказался за полную компенсацию его страны, но я предостерег его, что поляки не правы, требуя слишком многого».
За ланчем Молотов с Бирнсом обсудили перспективы первой встречи СМИД в Лондоне. Они договорились как можно скорее поручить своим аппаратам приступить к выработке текстов мирных договоров, чтобы в течение первой декады сентября завершить их согласование. «Мы обсудили назначение своих представителей, отношение Совета с Объединенными Нациями и желательность начала работы над итальянским договором сразу же по возвращении домой, – написал Бирнс. – По всем этим пунктам мы, как оказалось, нашли полное понимание». Увы, мирные договоры не удастся согласовать еще очень долго, а мирный договор с Германией – вообще никогда.
На вечерней встрече «Большой тройки» острые дискуссии в тот день вновь вызвал вопрос о допуске в ООН бывших союзников Германии. Молотов на министерской встрече настаивал на том, что «Румыния, Венгрия, Болгария и Финляндия не будут поставлены в худшее положение, чем Италия». На заседании лидеров его активно поддержал Сталин:
– В чем, собственно у Италии имеется больше заслуг по сравнению с другими странами? Единственная ее «заслуга» заключается в том, что Италия первая капитулировала. Во всем остальном Италия поступала хуже и нанесла больший вред, чем любое другое государство-сателлит. Разве в Италии более ответственное правительство, чем правительства в Румынии, Болгарии или Венгрии? Конечно, нет. Демократических выборов не было ни в Италии, ни в других государствах. Они в этом отношении равны.
Вновь вопрос о проливах. Трумэн предложил расширить вопрос, рассмотрев проблему свободы навигации в целом. Сталин настоял на возвращении к конкретному вопросу о Босфоре.
– Свободное плавание через Черноморские проливы должно быть утверждено и гарантировано тремя великими державами, а также другими державами, – настаивал Черчилль, поддержанный Трумэном. – Гарантия свободного прохода со стороны трех великих держав будет гораздо действеннее, чем фортификация проливов.
– А как регулируется проход через Суэцкий канал, применяется ли к нему тот же принцип? – ехидно поинтересовался Молотов. Вопрос о Суэце был отрегулирован двусторонним англо-египетским соглашением.
– Суэцкий канал открыт для всех и в мирное время, и во время войны, – уверил Черчилль.
– Он находится под таким же международным контролем, который предлагается для Черноморских проливов?
– Этот вопрос пока не поднимался, – растерялся британский премьер.
– Если это такое хорошее правило, почему же оно не применено к Суэцкому каналу? – настаивал Молотов.
– Мы имеем с Египтом договор, который нас совершенно удовлетворяет. Он действует в течение 70 лет, и до сих пор жалоб не было.
– Жалоб было много, – напомнил нарком. – Об этом следует спросить Египет.
– Египет подписал с нами договор, – доказывал Черчилль.
– Вы же говорите, что международный контроль лучше. Мы тоже предлагаем заключить договор с Турцией.
Тут в разговор вступил Трумэн:
– Если свободный режим проливов будет гарантирован международным авторитетом, то никаких фортификаций в этих проливах не понадобится ни Турции, ни России.
Становилось ясно, что по вопросу о проливах западные партнеры не собирались отступать ни на дюйм. Турция превращалась в один из самых серьезных камней преткновения.
В связи с дискуссией о проливах Трумэн написал в мемуарах: «Молотов много говорил в Потсдаме. Говорил, как будто он и был Российским государством до тех пор, пока Сталин не улыбался и не говорил ему несколько слов по-русски, после чего он менял свой тон. Я нередко чувствовал, что Молотов скрывал некоторые факты от Сталина или не предоставлял эти факты до того момента, когда вынужден был это делать. Всегда было сложнее прийти к договоренности с Молотовым, чем со Сталиным. Если Сталин мог иногда улыбнуться и расслабиться, Молотов постоянно оказывал давление».
И Трумэна обманывала эта многолетняя игра советских лидеров в «доброго и злого следователя». Но не было ни одного вопроса, по которому Молотов занял бы более жесткую позицию в отношении Запада, чем Сталин. А конфликты между ними будут возникать исключительно на почве «либерализма» Молотова.
После бурного заседания 24 июля произошел один из знаменательных эпизодов истории, запечатленный во многих исторических книгах и фильмах о войне. Трумэн поведал Сталину об атомном оружии. Описали этот эпизод и все его участники.
В мемуарах президента мы читаем: «24 июля я между прочим упомянул Сталину, что у нас есть новое оружие необычайной разрушительной силы. Русский премьер не проявил никакого особого интереса. Все, что он сказал, это то, что он рад слышать об этом и надеется на «успешное применение его против японцев нами»».
Переводивший в Потсдаме для Трумэна Чарльз Болен тоже поделился воспоминаниями: «В роли переводчика выступал Павлов, переводчик Сталина. Не я переводил сказанное президентом и потому не слышал, что он говорил. Поэтому я никогда не знал точно, в каком русском переводе реплика Трумэна дошла до Сталина. В целом Павлов был хорошим переводчиком, но ни в коем случае нельзя сказать, что он владел английским в совершенстве». Мы тоже не знаем, что точно сказал Трумэн и как его слова были переведены Сталину.
Но мы точно знаем другое. «Вместо государственного подхода, который был выработан им и Стимсоном на основе рекомендации ученых и правительственных лиц после тщательного обсуждения, Трумэн просто похвастался. Не было никакого упоминания о сотрудничестве, не было предложения сделать планету мирной и безопасной, не было упоминания о предложении делиться информацией в обмен на урегулирование польской, румынской, югославской и маньчжурской проблем», – справедливо замечала Сьюзен Батлер.
Черчилль «увидел, как президент подошел к Сталину, и они начали разговаривать одни при участии только их переводчиков. Я стоял ярдах в пяти от них и внимательно наблюдал эту важнейшую беседу. Я знал, что собирается сказать президент. Важно было, какое впечатление это произведет на Сталина. Я был уверен, что он не представляет всего значения того, о чем ему рассказывали. Совершенно очевидно, что в его тяжелых трудах и заботах атомной бомбе не было места. Если бы он имел хоть малейшее представление о той революции в международных делах, которая совершалась, то это сразу было бы заметно. Но на его лице сохранилось веселое и благодушное выражение, и беседа между двумя могущественными деятелями скоро закончилась. Когда мы ожидали свои машины, я подошел к Трумэну.
– Ну, как сошло? – спросил я.
– Он не задал мне ни одного вопроса, – ответил президент.
Таким образом, я убедился, что в тот момент Сталин не был особо осведомлен о том огромном процессе научных исследований, которым в течение столь длительного времени были заняты США и Англия, и на которые, идя на героический риск, израсходовали более 400 миллионов фунтов».
Наблюдал за этой сценой и Иден, у которого тоже «возникли сомнения, что Сталин понял, о чем шла речь. Его ответом был кивок и короткое: «Спасибо». Никаких комментариев».
Итак, Трумэн, Черчилль, Иден были уверены, что Сталин даже не понял, о чем шла речь, всей серьезности сообщенной ему информации о наличии у США ядерного оружия. На деле, конечно же, это было не так. Москва была хорошо информирована. Как свидетельствовал Павел Судоплатов, возглавлявший внешнюю разведку, в марте 1945 года был подготовлен общий доклад о ядерной программе США, в апреле академику Сергею Курчатову был передан материал с характеристиками взрывного устройства, а через 12 дней после сборки первой ядерной бомбы в Лос–Аламосе было получено описание ее устройства.
Молотов, лично с самого начала курировавший советский ядерный проект, тоже неоднократно вспоминал историческую беседу американского президента со Сталиным: «В Потсдаме Трумэн решил нас удивить. Насколько я помню, после обеда, который давала американская делегация, он с секретным видом отвел нас со Сталиным в сторонку и сообщил, что у них есть такое оружие особое, которого еще никогда не было, такое сверхобычное оружие. Трудно сказать, что он думал, но мне казалось, он хотел нас ошарашить. А Сталин очень спокойно к этому отнесся. И Трумэн решил, что тот ничего не понял. Не было сказано «атомная бомба», но мы сразу догадались, о чем идет речь. И понимали, что развязать войну они пока не в состоянии, у них одна или две бомбы всего имелись, взорвать-то они потом взорвали над Хиросимой и Нагасаки, а больше не осталось. Но даже если и осталось, это не могло тогда сыграть особой роли».
Причем Молотов вполне соглашался с изображением этой сцены в фильме «Освобождение», где Сталин после обмена репликами с президентом подошел к Молотову и сказал:
– Надо сказать Курчатову, чтобы он ускорил работу.
Американцы и англичане явно недооценивали осведомленность Сталина и Молотова о ядерной программе. Их трудно было удивить, поскольку, словами Гэддиса, они «узнали о бомбе задолго до американского президента».
После сообщения Трумэна, как писал Андрей Громыко, «Сталин незамедлительно из Потсдама дал советскому ученому-ядерщику И.В. Курчатову указание ускорить дело с созданием атомной бомбы, которое стало мощным импульсом для всего комплекса соответствующих работ в нашей стране».
Похоже, наши высшие военные руководители были информированы об атомном проекте гораздо меньше, чем высшее политическое руководство. Вот версия Жукова, при беседе не присутствовавшего и, видимо, не сильно осведомленного о ядерном проекте: «Вернувшись с заседания, И.В. Сталин в моем присутствии рассказал В.М. Молотову о состоявшемся разговоре с Г. Трумэном. В.М. Молотов тут же сказал:
– Цену себе набивают.
И.В. Сталин рассмеялся:
– Пусть набивают. Надо будет переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы.
Я понял, что речь шла о работе над атомной бомбой».
Антонов делился новостью из Потсдама со Штеменко. «Позже Алексей Иннокентьевич говорил мне, что Сталин сообщил ему о наличии у американцев новой бомбы очень большой поражающей силы. Но Антонов, как, видимо, и сам Сталин, не сделал из информации Трумэна вывода, что речь идет о принципиально новом оружии. Во всяком случае, Генеральному штабу никаких дополнительных указаний не последовало».
Надежды американцев и англичан на повышение сговорчивости Сталина после известия о наличии у США атомной бомбы были перечеркнуты его деланно-равнодушной реакцией на откровение Трумэна. «Мы думали, что он будет очень взволнован и встревожен, – вспоминал Гарриман, – но он не высказал ни малейшего беспокойства и тем самым очень всех подвел». Годы спустя Гарриман, комментируя мнение Трумэна и других о «непонимании» Сталиным этой информации, говорил, что «у меня никогда не было такого впечатления. Я помню разговор с Молотовым после возвращения из Потсдама, в котором он, говоря об этом сообщении, сказал мне с недоброй усмешкой:
– Вы поделились с нами очень большим секретом.
Это было сказано в такой манере, что для меня стало ясно – для них здесь не было никакого секрета. Сведения, полученные позднее от Клауса Фукса и других, подтвердили, что русские еще до Потсдама располагали полной информацией обо всем наиболее существенном в создании нашей атомной бомбы. Так что для Сталина это не было неожиданностью».
Надо отдать должное выдержке Сталина. Зная об атомной бомбе, он вплоть до конца конференции ни словом, ни намеком не выказал заинтересованности в сообщенной Трумэном информации.
Вечером 24 июля Черчилль объявил, что на следующий день британская делегация выезжает в Лондон, чтобы присутствовать при оглашении официальных итогов парламентских выборов.
Но Трумэну нужно было обсудить с премьером еще одну проблему – опять без Сталина. «Я приехал в Потсдам с проектом ультиматума с призывом к капитуляции Японии, который я хотел обсудить с Черчиллем, – напишет президент. – Это была совместная декларация глав правительств Соединенных Штатов, Соединенного королевства и Китая. Я ждал, пока Объединенный комитет начальников штабов достигнет согласия по нашей военной стратегии, прежде чем я дал ему проект 24 июля. Черчилль бы, так же как и я, заинтересован во вступлении русских в войну с Японией. Он чувствовал, как и наши военные руководители, что вступление России приблизит поражение Японии. В то же время. Черчилль быстро согласился с принципами предложенной декларации…».
Историю появления декларации поведал и Черчилль: «В течение нескольких длительных бесед с президентом наедине или в присутствии его советников я обсуждал, что нам предпринять. Ранее на этой же неделе Сталин частным образом сообщил мне, что когда его делегация уезжала из Москвы, ему вручили через японского посла никому не адресованное послание. Оно… было подписано японским императором. В нем говорилось, что Япония не может согласиться на «безоговорочную капитуляцию», но она, возможно, пойдет на компромисс на других условиях… Я остановился на перспективе колоссальных потерь американцев и несколько меньших потерь англичан, если мы будем навязывать японцам «безоговорочную капитуляцию». Поэтому ему следует подумать, нельзя ли выразить это каким–то иным образом, чтобы мы получили все необходимое для будущего мира и безопасность и вместе с тем создали бы для них какую-то видимость, что они спасли свою военную честь, и какую–то гарантию их национального существования после того, как они выполнят все требования, предъявленные победителем. Президент резко ответил, что после Пёрл–Харбор он не считает, что у японцев есть какая-то военная честь…
Мы, конечно, знали, что японцы готовы отказаться от всех завоеваний, которые они сделали во время войны. В конце концов, было решено направить Японии ультиматум с требованием немедленной безоговорочной капитуляции ее вооруженных сил».
Так появилась Потсдамская декларация, представлявшая собой ультиматум Японии, которой угрожали быстрым и полным разрушением, если японское правительство не объявит о «безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил».
25 июля. Среда
Японцы не оставляли надежд на выход из войны через советское посредничество. 24 июля посол в Москве Сато получил телеграмму от главы МИДа Того. «Министр поручал ему сообщить советскому правительству, что задачи миссии Коноэ заключается в том, чтобы просить советское правительство о посредничестве с целью окончания войны. В его задачу также входит ведение переговоров с советским правительством об укреплении советско-японских отношений». 25 июля на встрече с Лозовским посол передал эти разъяснения советской стороне. Заместитель наркома обещал доложить их высшему руководству. Из Москвы никакой реакции не последует.
Встреча министров иностранных дел 25 июля, на которой председательствовал Молотов, была малосодержательной: обсудили в общих чертах предложение Трумэна о свободе навигации по внутренним водным путям. «После нее Молотов, окруженный Вышинским, Соболевым и другими, выразил свои наилучшие пожеланиям в самых теплых выражениях, сказал, что надеется на наш успех и многое другое, – записал Иден. – Должно быть, я был плохим министром иностранных дел и слишком часто уступал, раз они хотели моего возвращения».
Лидеры в порядке исключения согласились встретиться утром. «Перед тем, как начать девятое заседание конференции, Черчилль, Сталин и я позировали в саду дворца для первых официальных фотографий конференции, – записал Трумэн. Девятая сессия началась с теперь хорошо знакомого вопроса о западных границах Польши».
Черчилль тоже хорошо запомнил: «Это было последнее заседание, на котором я присутствовал. Я еще раз заявил, что западная границ Польши не может быть установлена без учета миллиона с четвертью немцев, которые все еще находятся в этом районе, а президент подчеркнул, что любой мирный договор может быть ратифицирован только с согласия сената… Спор продолжался. Сталин заявил, что гораздо важнее получать уголь и металл из Рура, чем получать продовольствие».
В конце заседания Черчилль извинился за необходимость отлететь на день в Лондон.
« – Какая жалость, – произнес Сталин.
– Я надеюсь вернуться, – ответил Черчилль.
– Судя по выражению лица господина Эттли, он не думает, что надеется взять власть из рук господина Черчилля, – заметил Сталин.
После этого британский премьер вылетел домой вместе с дочерью Мэри. «Жена встретила меня на аэродроме. Я отправился спать с уверенностью, что английский народ хочет, чтобы я продолжал свою работу. Я надеялся, что можно будет восстановить национальное коалиционное правительство в новой палате общин. С этим я и заснул».
Меж тем, союзники не переставали удивлять. Только 25 июля они соблаговолили ознакомить с текстом декларации советскую сторону. При этом мнение СССР не запрашивалось – ознакомили исключительно в порядке информации. Как только советская сторона была поставлена о ней в известность, Молотов попросил отложить ее опубликование хотя бы на три дня. Но, как оказалось, уже было поздно.
Трумэн 25 июля записал в дневнике: «Мы создали самую страшную бомбу в мировой истории. Она способна выжечь все, как это было предсказано в Священном писании о житие в долине Евфрата после Ноя и его знаменитого ковчега. В любом случае мы нашли способ расщепления атома. Эксперимент в пустыне Нью-Мексико увенчался, мягко говоря, потрясающим успехом. 13 фунтов взрывчатки вызвали полное разрушение стальной башни высотой шестьдесят футов, образовали кратер в 6 футов глубины и 1200 футов в диаметре, повалили стальную башню, расположенную в полумиле от эпицентра взрыва, и уложили на землю людей на удалении 10 тыс. ярдов. Взрыв был виден на расстоянии, превышающим 200 миль, и слышен в пределах 40 и даже более миль. Конечно, это благо для всего мира, что Гитлер или Сталин с их приспешниками не смогли открыть секрет атомной бомбы. Она выглядит как самое страшное оружие, когда-либо ставшее доступным человеку, хотя это оружие может оказаться и полезным.
Атомное оружие должно быть использовано против Японии в промежутке между сегодняшним днем и 10 августа. Я сказал военному министру Стимсону, что использовать ее нужно так, чтобы объектом стали военные сооружения, солдаты и военные моряки. А не женщины и дети. Несмотря на то, что японцы – варвары. Несмотря на то, что они грубы, жестоки и фанатичны, мы как ведущая держава мира, заботящаяся о благе всех людей, не можем бросить эту ужасную бомбу на обе столицы Японии – старую и новую».
Между тем и ему, и Стимсону было хорошо известно, что выбор целей определялся как раз исходя из задачи достижения максимального эффекта нанесением удара по жилым кварталам. Ну, а кроме того, приказ, санкционировавший атомную бомбардировку, последовал до того, как Японии была направлена Потсдамская декларация о безоговорочной капитуляции – 25 июля – по письменному свидетельству самого Трумэна.
По его поручению исполнявший обязанности руководителя штаба генерал Хэнди подписал приказ: «1. 509–я сводная группа 20-й воздушной армии доставит первую специальную бомбу, как только погода позволит осуществить визуальное бомбометание приблизительно после 3 августа 1945 года по одной из этих целей: Хиросима, Кокура, Ниигата и Нагасаки… 2. Дополнительные бомбы будут доставлены к обозначенным целям, как только будут подготовлены штабом проекта. Дальнейшие инструкции будут даны в отношении целей, кроме тех, которые перечислены выше».
Отчаянная попытка добиться немедленного мира с Японией, предпринятая резидентом УСС в Берне Алленом Даллесом (он прибыл в Потсдам 20 июля с целью сообщить президенту о своих контактах с японцами на предмет капитуляции их стороны), была отклонена. Стимсон при первой же встрече с будущим директором ЦРУ заявил, что «поезд ушел».
26 июля. Четверг
Для Уинстона Черчилля это был, мягко говоря, не самый счастливый день. Перед самым рассветом «вдруг проснулся, ощутив острую, почти физическую боль. Существовавшее до сих пор подозрительное чувство, что нас победили, вспыхнуло во мне с новой силой и охватило все мое существо…
Это была мрачная перспектива, но я повернулся на другой бок и снова заснул. Я проснулся только в 9 часов, и, когда я вошел в оперативный кабинет, начали поступать первые сведения. Они были, как я теперь уже ожидал, неблагоприятны. За завтраком жена сказала мне:
– Может быть, это скрытое благо.
Я ответил:
– В данный момент оно кажется весьма успешно скрытым.
В 4 часа, попросив аудиенцию у короля, я отправился во дворец, вручил свою отставку и посоветовал Его Величеству послать за Эттли».
Советское посольство в Лондоне объясняло поражение консерваторов недовольством англичан нагнетанием военной опасности правительством Черчилля и опасением того, что «победа консерваторов могла бы привести к войне с СССР».
Консерваторы проиграли выборы. Как ни странно, главным фактором поражения Черчилля стало голосование армии. Когда одного солдата спросили, почему он голосовал за лейбористов, тот ответил: «Мне надоело получать приказы от проклятых офицеров». Победа СССР, похоже, стимулировала голосование в Европе по классовому признаку и повсеместный сдвиг политического спектра влево.
В Потсдам Черчилль больше не вернется. И со Сталиным больше не увидится.
Трумэн утром 26-го отправился во Франкфурт проинспектировать американские армейские части. Эйзенхауэр вспоминал: «Находясь в Германии, президент изъявил желание совершить инспекционную поездку в войска. Я договорился, чтобы поездка была в американскую зону, и по счастливому совпадению в число инспектируемых соединений попала 84-я дивизия. В этой дивизии начальником штаба был полковник Луис Трумэн, двоюродный брат президента, и поэтому поездка в дивизию стала бы для президента приятной не только в официальном, но и в личном плане».
А военные делегации трех стран продолжили консультации. Удалось реализовать достигнутую еще в Ялте договоренность об организации дополнительных метеорологических станций с американским оборудованием на Дальнем Востоке в связи с военными операциями против Японии. Трумэн направил Сталину еще 21 июля записку: «Ввиду увеличения масштаба военно-морских и военно-воздушных операций вблизи Японии и Сибири стало в высшей степени желательным расширить средства для сбора и распространения информации о погоде в Восточной Сибири. Расширение метеорологической службы было бы в равной мере выгодно также и для Советского Союза». Сталин не стал отвечать Трумэну письменно, но на встрече военных делегаций 26 июля советская сторона заявила о готовности пойти навстречу. В Хабаровске и Петропавловске-Камчатском организовали две американские аэрологические станции, которые передавали метеорологические сведения военно-морским и военно-воздушным силам США, действовавшим против Японии.
Вернувшись вечером в Берлин, президент Трумэн обнародовал тот ультиматум, который стал известен как «Потсдамская декларация». Документ утверждал, что три страны – США, Китай и Великобритания – «совещались и согласились в том, что Японии следует дать возможность окончить эту войну…
Огромные наземные, морские и воздушные силы Соединенных Штатов, Британской империи и Китая, усиленные во много раз их войсками и воздушными флотами с Запада, изготовились для нанесения окончательных ударов по Японии. Полное применение нашей военной силы, подкрепленной нашей решимостью, будет означать неизбежное и окончательное уничтожение японских вооруженных сил, столь же неизбежное полное опустошение японской метрополии.
Навсегда должны быть устранены власть и влияние тех, которые обманули и ввели в заблуждение народ Японии... Мы не стремимся к тому, чтобы японцы были порабощены как раса или уничтожены как нация, но все военные преступники, включая тех, которые совершили зверства над нашими пленными, должны понести суровое наказание…
Мы призываем правительство Японии провозгласить теперь же безоговорочную капитуляцию всех японских вооруженных сил и дать надлежащие и достаточные заверения в своих добрых намерениях в этом деле. Иначе Японию ждет быстрый и полный разгром».
27 июля. Пятница
Опубликование Потсдамской декларации вызвало, мягко говоря, недоумение у Сталина. Молотов специально встретился на эту тему с Бирнсом, который уверял, что услышал о просьбе наркома подождать с ее опубликованием только утром 27-го.
– Декларация не была предоставлена Вам раньше, так как Советский Союз не находится в состоянии войны с Японией и президент не хотел создавать затруднений для Советского правительства.
– Советская делегация передала свою просьбу немедленно после получения декларации, – взывал Молотов к совести Бирнса.
– Текст декларации был передан представителям печати вчера в 7 часов вечера.
– Советская делегация получила текст декларации после 7 часов вечера.
Как можно так поступать с потенциально важнейшим союзником в войне с Японией – было выше понимания Сталина и Молотова.
Кстати, отсутствие под Потсдамской декларацией подписи Советского Союза во многом определило отношение к ней японского правительства, удерживая его от незамедлительного принятия ультиматума, поскольку в Японии неизбежность поражения связывали только со вступлением в войну СССР. Впрочем, может, так Трумэном и было задумано. Похоже, он не хотел капитуляции Японии до того, как на нее будут сброшены ядерные бомбы.
После обсуждения Потсдамской декларации в Токио на совещании Высшего совета по руководству войной, Того телеграфировал 27 июля послу Сато: «Позиция, занятая Советским Союзом в отношении Потсдамской совместной декларации, будет с этого момента влиять на наши действия». Послу предписывалось срочно выяснить, «какие шаги Советский Союз предпримет против Японской империи».
Сталин меж тем получил послание от Эттли: «В связи с отставкой г-на Черчилля Его Величество Король поручил мне формирование правительства. Я уверен, Вы поймете, что в связи с неотложными собственными задачами, стоящими передо мной, я не могу вернуться в Потсдам вовремя, к пленарному совещанию, назначенному на 5 часов в пятницу, 27 июля.
Я предполагаю прибыть в Потсдам ко времени совещания во второй половине дня в субботу, 28 июля, и я был бы весьма благодарен, если бы в соответствии с этим могли быть проведены временные мероприятия, если это будет Вас устраивать».
Сталин немедленно ответил, проявив понимание: «Ваше послание получил 27 июля. У меня нет возражений против Вашего предложения назначить наше совещание на субботу, 28 июля, в любой час по Вашему усмотрению».
Но заседания министров продолжались, британскую сторону представлял замминистра иностранных дел Кадоган, больше хранивший молчание. 27 июля Молотов опять председательствовал, и центральным – как и на ближайшие дни – становился вопрос о репарациях.
– Если у нас не будет соглашения по вопросу о репарациях в целом, в конце концов, так и выйдет: советская сторона будет изымать репарации в своей зоне так, как она находит это нужным, а американская сторона будет изымать репарации в своей зоне так, как она находит нужным.
– Мы не хотим получать репарации для нашей страны, – уверял Бирнс.
– США не были оккупированы немецкими войсками, – доказывал Молотов. – У нас оккупирована огромная территория, и на этой территории вражескими войсками было уничтожено громадное количество заводов, электростанций и других предприятий. Территория Великобритании также не подверглась оккупации. Мы считаем моральным правом таких стран, как Советский Союз, Польша, Югославия, подвергшихся оккупации, получить возмещение... Мы не настаиваем на ялтинских цифрах, но мы хотим ясного ответа от правительств США и Великобритании на вопрос о репарациях, считая наше моральное право на возмещение неоспоримым и неотъемлемым.
Молотов поставил и вопрос о репарациях с Италии, а также с Австрии, которая была частью Германии, а ее солдаты топтали советскую землю. Бирнс ответил, что считает их получение с Австрии невозможным.
– Если Румыния платит за разрушения, причиненные соседям, то почему Австрия не будет платить? – вопрошал Молотов. – Вы можете отказаться от репараций с Австрии – это ваше право. Ваша территория не была оккупирована.
А Трумэн был озабочен судьбами Германии с совсем другой стороны. 27 июля он отправил Сталину меморандум, в котором говорилось: «Если не будет выделено существенное количество германского угля для экспорта, этой зимой Европе будет угрожать острый угольный голод. Я очень хочу, чтобы четыре оккупирующие державы проводили общую политику в отношении угля, и поэтому я поручил генералу Эйзенхауэру обсудить политику, излагаемую в прилагаемой директиве, в союзном контрольном совете в самое ближайшее время».
28 июля. Суббота
28 июля из Лондона в Потсдам возвратился Климент Эттли.
Старожилы Потсдама присматривались к новым британским лидерам. Трумэн напишет: «Новым премьером был Климент Эттли, а с ним как министр иностранных дел приехал Эрнст Бевин… Эти двое в сопровождении сэра Александра Кадогана, постоянного заместителя министра иностранных дел, заехали ко мне в Маленький Белый дом вскоре после прилета из Лондона. Главной целью визита было представление Бевина... Эттли обладал глубоким пониманием мировых проблем, и я знал, что наши совместные усилия будут продолжены».
Молотов тоже приглядывался к новому коллеге и партнеру по переговорам на годы вперед – Бевину. Это был колоритный профсоюзный лидер. «Бевин действительно сохранил замашки профсоюзного босса, прошедшего школу тред-юнионистских схваток, – напишет помощник Молотова Олег Трояновский. – Конечно, это был большой контраст по сравнению с аристократизмом и элегантностью прежнего министра иностранных дел Антони Идена».
С появлением Эттли и Бевина стиль работы британской делегации заметно изменился, став, по словам Хейтера, которому предстояло возглавить английское посольство в Москве, «более деловым»: «Новые министры, менее искушенные во внешней политике и потому менее уверенные в том, что досконально знают факты, проводили ежедневные встречи с советниками, интересовались вопросами, которые могут возникнуть в течение дня и читали всевозможные отчеты». Новый глава английского МИДа «излучал уверенность и личную силу... С самого начала Эттли почти полностью доверил ему ведение переговоров, и он включился в дело с уверенностью в себе и с мастерством, которые удивили многих».
Главы правительств в тот день встретились непривычно поздно – в 10.30 вечера, и встреча была короткой – Эттли еще нужно было прийти в себя и полностью войти в курс дела.
Заседание началось с реплики Сталина, который в удивительно мягком тоне высказал свои претензии в отношении обстоятельств появления Потсдамской декларации.
Огласив адресованную Москве ноту Японии о посредничестве и переговорах о перемирии, он заметил:
– Хотя нас не информируют как следует, когда какой-нибудь документ составляется о Японии, однако мы считаем, что следует информировать друг друга о новых предложениях.
Трумэн запомнил так: «Сталин сказал, что он хотел бы сделать заявление перед началом обсуждения. Он заявил, что российская делегация получила предложение от Японии, и хотя советская делегация не была официально проинформирована, когда выдвигался ультиматум Японии, тем не менее, он намерен информировать союзников о шагах со стороны Японии». Это было предложение о визите принца Каноэ в Москву. «Ответ будет негативным», – сказал он. Я поблагодарил маршала Сталина».
28 июля японское правительств официально отвергло Потсдамскую декларацию, заявив о намерении «продолжать движение вперед для успешного завершения войны». Продолжение после этого зондажа позиции советского правительства теряло смысл. Тем не менее, японское правительство обратилось к Москве с просьбой изложить свои «пожелания и указания». В этот критический для империи момент японское правительство было уже готово идти на удовлетворение любых требований СССР, в том числе территориальных.
Молотов в Потсдаме доложил о прошедших в дни перерыва заседаниях министров. Сталин сделал великодушный жест:
– Можно было бы согласиться насчет того, чтобы с Австрии репараций не брать, поскольку Австрия не представляла собой самостоятельного государства. Но нашему советскому народу очень трудно понять отсутствие всяких репараций с Италии.
С этим сложно было не согласиться.
29 июля. Воскресенье
Воскресное утро 29 июля Трумэн посвятил протестантской службе в берлинском Коллизеуме. Вернувшись в Маленький Белый дом, он застал терпеливо ожидавшего его советского наркома иностранных дел. «Молотов пришел сообщить мне, что премьер Сталин простудился, и доктора приказали ему не покидать резиденцию. По этой причине, сказал Молотов, премьер не сможет сегодня присутствовать на конференции. Затем Молотов высказал пожелание обсудить некоторые вопросы, которые возникнут на следующем заседании. Я согласился с его просьбой и послал за секретарем Бирнсом, адмиралом Лиги и Чипом Боленом, моим переводчиком. Наша встреча продолжалась около часа». Согласились, что успешному завершению конференции мешают три нерешенных вопроса: западная граница Польши, раздел немецкого флота и репарации с Германии.
– Американская делегация готова согласиться со всем тем, чего просят поляки, за исключением территории между Восточной и Западной Нейсе, – сообщил Бирнс.
– Это важный район, на котором поляки особенно настаивают, – возразил Молотов.
– Этот район должен остаться под советским управлением, пока мирная конференция не разрешит окончательно его судьбу. Вопрос о территориях, находящихся под управлением Польши, представляет собой важный источник разногласий между союзниками, так как по ялтинскому соглашению никакой зоны оккупации для Польши не предусматривалось, – ответил Бирнс.
– Поляки не могут получить всего, чего они хотят, – заметил Трумэн. – Я и так делаю им большую уступку.
– Это результат военной обстановки, который невозможно было предвидеть заранее во время ялтинских переговоров, – обосновывал свою позицию Молотов. – Немцы бежали из этого района, их там почти не осталось, так что этот район оказался заселенным почти исключительно одними поляками, что и вызвало необходимость установления там польской администрации.
– По ялтинскому соглашению эта территория должна находиться под управлением СССР, и все, о чем просит делегация США, – это осуществление этого соглашения, – напомнил Бирнс.
– Войска маршала Рокоссовского остаются в этом районе, – заверил Молотов. И подтвердил твердую решимость Сталина закрепить территорию до Западной Нейсе за Польшей. После чего Бирнс предложил перейти к вопросу о флоте. Молотов счел, что договоренность уже достигнута, ее только надо положить на бумагу.
– Важно сейчас договориться о том, что 1/3 военного флота и 1/3 торгового флота должны быть переданы СССР.
– Американское правительство согласно немедленно разделить германский военно-морской флот, – подтвердил Трумэн, – но торговый флот должен быть использован в войне против Японии.
– Торговый флот нужен также и СССР на Дальнем Востоке в интересах войны с Японией, – парировал Молотов.
С флотом в Потсдаме так и не разберутся: было решено, что три правительства назначат экспертов, которые «совместно выработают детальные планы осуществления согласованных принципов». И эта работа окажется вовсе не напрасной. Советский Союз получит 155 немецких боевых кораблей, в их числе крейсер, 4 эсминца, 6 миноносцев и несколько подводных лодок.
Бирнс поинтересовался, обдумала ли Москва американское предложение об обмене репарациями между Руром и советской зоной.
– Советские и американские экономисты согласились с тем, что в советской зоне имеется всего 40-42% национального богатства Германии. В Ялте было решено, что на долю СССР должно приходиться 50% всех репараций. Поэтому Советская делегация ставит вопрос о том, чтобы СССР было предоставлено в дополнение к тому, что СССР сможет получить из своей зоны, примерно на 2 млрд. оборудования из Рура.
Бирнс выдвинул контрпредложение: выделить для СССР по 12,5% всего того оборудования, которое будет предназначено для репараций из английской и американской зон.
– В чем выразится доля СССР, если исчислить ее в долларах или тоннах оборудования? – поинтересовался Молотов. – СССР имеет в виду получить металлургическое, машиностроительное и химическое оборудование. Значительные разрушения причинены городам и вообще зданиям, но станки и машины в значительной части уцелели.
– СССР должен получить 50% всего того оборудования и материалов, которые могут быть использованы для репараций, – подтвердил Трумэн.
Получив уверение в том, что Советский Союз помимо репараций из своей зоны оккупации получит еще 25%, которые будут выделены из промышленного оборудования Рура, нарком отбыл из Маленького Белого дома в неплохом расположении духа.
Был и еще один сюжет, который «выпал» из изданных в СССР материалов Потсдама. Молотов заявил, что в связи с неотложностью объявления войны Японии было бы весьма желательно, чтобы США, Великобритания и другие союзные страны обратились к Москве с соответствующей официальной просьбой. «Он сказал, что это могло быть основано на отказе Японии принять недавний ультиматум о капитуляции и базироваться на стремлении сокращения времени войны и сохранения жизней. Молотов сказал также, что советское правительство, конечно, надеется заключить договор с Китаем до вступления Советского Союза в войну с Японией». Сильный ход, который снимал бы все вопросы о советских мотивах в войне с Японией и заметно укреплял возможности Кремля претендовать на определение послевоенного устройства Восточной Азии.
Предложение Молотова крайне озадачило президента и госсекретаря. Трумэн писал: «Я увидел в нем циничный дипломатический ход с целью представить вступление России решающим фактором достижения победы. В Ялте русские согласились и здесь, в Потсдаме, подтвердили свое обязательство вступить в войну против Японии через три месяца после дня победы в Европе – при условии, что Россия и Китай предварительно заключат договор о взаимной помощи... Не было никаких других условий и, конечно, никаких, которые бы обязывали Соединенные Штаты и союзников обеспечить России причины для разрыва с Японией... Я не хотел, чтобы Москва пожинала плоды длительной, ожесточенной и доблестной борьбы, в которой она не участвовала». Бирнс замечал, что в тот момент «испытал бы чувство удовлетворения, если бы русские решили не вступать в войну».
У Сталина же в тот день дошли руки до того, чтобы ответить на два предложения Трумэна. Во-первых, об авиасообщении через Берлин. «Советское правительство положительно относится к Вашему предложению, – ответил Сталин. – Соответствующим советским органам даны указания обсудить с американскими представителями технические вопросы, связанные с этим предложением». Во-вторых, об угле для Европы. С учетом сложной ситуации на освобожденных Красной армией территориях Сталин не стал брать на себя обязательств по поставкам угля, которые ожидали, прежде всего, из Силезии. «Поставленный Вами в меморандуме важный вопрос об использовании германского угля для удовлетворения европейских нужд будет подвергнут соответствующему изучению. Правительство Соединенных Штатов будет информировано о точке зрения Советского правительства по этому вопросу».
30 июля. Понедельник
Сталин все еще болел, и заседания лидеров 30 июля не проводилось. Трумэн написал жене и дочери: «Мистер Сталин не сможет выходить их дома пору дней. Я действительно думаю, что он не болен, а разочарован английскими выборами».
Президент направил Сталину написанную от руки записку: «Уважаемый Генералиссимус Сталин. Я с большим сожалением узнал о Вашей болезни. Я надеюсь, что она не носит серьезного характера, и что в скором времени Вы будете совершенно здоровы». Вдогонку Трумэн послал и свой автопортрет с дарственной надписью.
В тот день он записал в дневнике: «Если Сталин сыграет в ящик, это будет конец первоначальной «большой тройки». Сначала умер Рузвельт, потом потерпел политическое поражение Черчилль, и вот затем Сталин. Интересно, что будет с Россией и Центральной Европой, если Джо уйдет в мир иной. Если какой-нибудь демагог на коне захватит контроль над эффективной военной машиной России, он может надолго ввергнуть европейский мир в хаос. Мне интересно также знать, существует ли человек, наделенный необходимой силой и чувством перспективы для того, чтобы занять место Сталина и сохранить мир и национально единство внутри страны. В привычки диктаторов не входит подготовка лидеров, способных унаследовать их власть. На конференции я не видел ни одного русского, который смог бы сделать эту работу. Молотов окажется не в состоянии, то же Вышинский, а Майскому не хватает искренности. Дядя Джо еще очень силен психически и физически, но человек смертен, и нам остается только гадать, что нас ждет».
Сталин поблагодарил за письмо и добавил: «Сегодня чувствую себя лучше и завтра, 31 июля, рассчитываю присутствовать на конференции». И чуть позднее: «Благодарю Вас за присылку вашего портрета. Как только приеду в Москву, не премину послать Вам свой портрет». Сталин выполнит свое обещание. В августе он передаст через американское посольство свой фотопортрет с надписью: «Наилучшие пожелания президенту Трумэну от его друга И. Сталина».
В полпятого вечера Бирнс приехал к Молотову, и именно на этой встрече были найдены основные дипломатические развязки Потсдамской конференции. По Польше – граница по Западной и Восточной Нейсе. Госсекретарь обещал уговорить и англичан. Нарком не возражал.
Молотов вручил советские предложения о суде над главными военными преступниками.
– Имеются разногласия о том, где должен состояться процесс, в Нюрнберге или в Берлине. Советское правительство предпочло бы Берлин, но оно готово согласиться на любое из этих мест.
Договорились об отказе от ялтинской идеи расчленения Германии. В сообщении об итогах Берлинской конференции будет сказано о том, что «германский народ начал искупать ужасные преступления, совершенные под руководством тех, которым во имя их успехов он открыто выражал свое одобрение и свято повиновался». Вместе с тем союзники заверили об отсутствии намерений «уничтожить или ввергнуть в рабство немецкий народ». Предусматривались полное разоружение и демилитаризация Германии, ликвидация промышленности, которая могла быть использована для военного производства, упразднение сухопутных, морских и воздушных сил Германии, СС, СА, СД, гестапо со всеми штабами и учреждениями, включая Генштаб, уничтожение НСДАП. Германия на время оккупации должна была рассматриваться как единое экономическое целое.
В Москве в тот день посол Сато добился приема у Лозовского, который немедленно отправил послание в Потсдам: «Ко мне 30 июля обратился Сато за ответом по вопросу о посредничестве. Я сказал, что для ответа требуется известное время. Сегодня, к сожалению, я не могу дать ответ послу... По поводу Потсдамской декларации Сато сказал:
– Япония не может сдаться на таких условиях. Если честь и существование Японии будут сохранены, то Японское правительство для прекращения войны проявит весьма широкую примиренческую позицию...
Он хочет знать, не будет ли со стороны Советского правительства тех или иных пожеланий и указаний. В заключение Сато сказал, что у него имеются опасения, что обращение Трумэна, Черчилля и Чан Кайши может помешать посредничеству. Однако поскольку руководители Советского правительства находятся в Берлине, то он надеется, что они уделят соответствующее внимание этому вопросу и устранят помехи».
31 июля. Вторник
Трумэн счел нужным ответить на советские озабоченности, связанные с Потсдамской декларацией в отношении Японии, и на просьбу к союзникам пригласить Москву вступить в войну с Японией, чтобы подкрепить правовые основания для этого. Отвергать с порога советское обращение он не стал. Выход из положения нашли юристы Госдепартамента, предложившие другое обоснование для разрыва советско-японского пакта о нейтралитете – Московскую декларацию 1943 года и статьи 103 и 106 Устава ООН. И хотя эта декларация не имела юридически обязывающей силы, а Устав ООН еще не ратифицировали, эта аргументация легла в основу послания Трумэна Сталину от 31 июля. По сути это была казуистическая отписка. Вывод Кремль мог сделать один: союзники не жаждут советского вступления в войну, а значит, под угрозой могли оказаться и обещанные в Ялте приобретения на Дальнем Востоке.
В урочное время 31 июля вновь собралась «Большая тройка». Бевин доложил о том, что большинство позиций заключительного документа уже согласовано. Нерешенным оставался вопрос о Югославии и Триесте. На проект решения западной стороны, советская выдвинула два встречных. Было решено снять с рассмотрения все три.
А в Вашингтоне в этот день заканчивались последние приготовления к нанесению ядерного удара по Японии. Военный министр Стимсон, вылетевший в Вашингтон раньше других, узнал из газет, что Потсдамская декларация японцами отклонена, следовательно, операция «Выдвижной киль» отменена не будет. Стимсон, Банди, Гаррисон и Гровс засели за текст заявления президента о бомбардировке Хиросимы. К вечеру он был готов, и лейтенант Гордон Арнесон, специальный порученец Стимсона, вылетел с ним в Потсдам.
Трумэн текст одобрил. Но тут же распорядился: ни при каких условиях не предпринимать атомной бомбардировки до 2 августа, когда участникам конференции предстояло расстаться. Трумэн не желал, чтобы Сталин успел задать ему несколько вопросов, на которые он не хотел бы отвечать.
1 августа. Среда
1 августа состоялось два пленарных заседания. Трумэн счел, что на первом «Сталин и Молотов были особенно тяжелы, настаивая на точных процентах репараций в пользу России из британской, французской и американской зон. Поскольку большинство репараций предполагалось получить из Рура, который лежал в британской зоне оккупации, Бевин воевал за сокращение русских процентов».
Сталин согласился с предложенной англичанами формулой урегулирования отношений с немецкими союзниками: «Три правительства считают желательным, чтобы теперешнее аномальное положение Италии, Болгарии, Финляндии, Венгрии и Румынии было прекращено заключением мирных договоров».
О втором в тот день заседании Трумэн напишет: «Последняя встреча, тринадцатая, была запланирована на девять часов вечера. Но она была перенесена на 22.40, чтобы дать разным делегациям больше времени для завершения работы над проектами двух основных итоговых документов конференции – протокола и коммюнике... На Потсдамской встрече не было секретов. Я решил с самого начала, что не буду участвовать ни в каких тайных соглашениях». Секреты были. И не только бомба.
Осталось обсудить отдельные слова и фразы в коммюнике. Трумэн запомнил: «В какой-то момент Бевин раскритиковал английскую фразеологию коммюнике. Сталин сказал, что тот английский язык, который приемлем для американцев, будет приемлем и для русских…
Тогда я заявил, что все дела сделаны и мы можем завершить работу. Я выразил надежду, что наша следующая встреча может пройти в Вашингтоне.
Кто-то произнес:
– Бог даст.
Это был Сталин.
Было три часа утра, когда Потсдамская конференция официально завершилась. Делегаты от трех стран еще какое–то время посвятили прощанию. И в 4 утра я покинул Цецилиенхоф».
Трумэн пригласил Сталина посетить США. «Я сказал ему, что пошлю за ним броненосец «Миссури», если он согласится. Он ответил, что хочет сотрудничать с США в мирное время, как мы сотрудничали в военное, но это будет сложнее. Добавил, что был ложно понят в США, так же, как я был ложно понят в России. Я сказал ему, что мы оба можем исправить положение у себя дома и что я постараюсь сделать это у себя. Он улыбнулся чрезвычайно сердечно и сказал, что будет не меньше стараться у себя в России».
– До следующей встречи, которая, я надеюсь, будет скоро, – сказал президент.
«Большая тройка» больше никогда не встретится.
2 августа. Четверг
Сталин возвращался в Москву тем же специальным поездом. Серов рассказывал об отъезде советской делегации из Потсдама: «Вечером на автомашинах все начальство въехало во Франкфурт-на-Одере, где и сядут в вагоны. Это сделано, видимо, в порядке перестраховки, чтобы не устраивать посадку в Берлине.
Может быть, это и правильно. Ведь тут еще фашистов осталось немало. Могли что-нибудь и сделать. Посадили в вагоны, распрощались.
В общем, можно вздохнуть посвободнее, а то целыми днями пришлось переживать, как бы немцы, мои «подчиненные», как Г.К. Жуков сказал, что-нибудь не устроили».
Эттли поспешил на самолете в Лондон, где свежеиспеченного премьер-министра и так заждались.
Маршрут Трумэна на родину был более замысловат. Он отклонил приглашения посетить Данию, Норвегию, Францию и нанести официальный визит в Великобританию. Из Берлина президент полетел в английский Плимут, где на борту «Августы» была организована его встреча с королем Георгом VI. И отправился на том же корабле в обратный путь.
Наверное, самым удивительным итогом Потсдамской конференции стало то, что, несмотря на все противоречия, начавшие уже дуть ветры холодной войны, порой диаметрально расходившиеся дипломатические интересы, все стороны оказались, скорее, удовлетворены ее итогами.
Даже вести из Аламогордо кардинально не изменили сути договоренностей. Наоборот, основные договоренности были достигнуты на заключительной стадии конференции. Молотов в ориентировке для советских диппредставительств о результатах конференции подчеркивал: «Вначале англичанами и американцами нам был предъявлен ряд претензий насчет наших самостоятельных действий по вывозу трофейного и репарационного оборудования из Германии и из стран-сателлитов, насчет нашей политики в балканских странах, где будто бы нет демократического развития политической жизни и нужен контроль над правительствами со стороны всех союзников и т. д... Большинство важных решений было принято в конце конференции, причем тогда было достигнуто значительное единодушие. Смена Черчилля и Идена внешне не отразилась на итогах конференции, но большинство решений были приняты уже при Эттли и Бевине... Конференция окончилась вполне удовлетворительными для Советского Союза результатами».
Заняв жесткие антисоветские позиции, англо-американцы отбили ключевые требования Москвы по Руру и репарациям с Германии, заявки на стратегические форпосты в Проливах, Средиземноморье и других районах. Сталин, к удивлению американцев, проявил готовность отступить от ялтинских условий – отказаться от советского военного контроля над Дальним и считать его «свободным портом», ускорить предстоявшую передачу КВЖД и ЮМЖД Китаю.
В то же время и Москве удалось отстоять свои ключевые предложения: о новых границах Польши, принципах послевоенной политики в Германии – денацификация, демилитаризация, демократизация и декартелизация; ведущей роли СССР в подготовке мирных договоров с европейскими союзниками Германии (кроме Италии), о присоединении к СССР части восточной Пруссии. «Решение о Кёнигсберге и прилегающем к нему районе имеет для Советского Союза большое значение, – с удовлетворением отмечал Молотов в ориентировке. – У нас будет свой незамерзающий порт на Балтийском море, причем этот кусок германской территории непосредственно присоединяется к СССР».
Были отражены попытки союзников установит международный контроль над выборами в Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии. В разговоре с Георгием Димитровым Молотов даже назовет потсдамские решения «признанием Балкан как советской сферы влияния». Москву вполне устраивало и сохранение за «Большой тройкой» ведущей роли в согласовании мирных договоров. Оставшиеся важные вопросы – подготовка мирных договоров, судьба итальянских колоний, регулирование водных путей, были переданы на рассмотрение нового органа – Совета министров иностранных дел трех стран с участием также Франции и Китая.
Общий баланс уступок представлялся Кремлю вполне приемлемым. А сражения по остальным советским требованиям предстояло продолжить в рамках СМИД.
«Важнейшим, хотя и никогда не произносимым итогом Ялты и Потсдама было восстановление фактического преемства СССР по отношению к геополитическому ареалу Российской империи в сочетании с новообретенной военной мощью и международным влиянием, – считает Наталья Нарочницкая. – Это, в свою очередь, определило неизбежность «холодного» противодействия результатам победы, восстановившим на месте Великой России силу, способную сдерживать устремления Запада».
Роль Сталина в достижении потсдамских договоренностей не стоит преуменьшать.
Весьма лестную характеристику Сталину как переговорщику дали опытные британские дипломаты в секретном сборнике портретов советских руководителей, подготовленном посольством в Москве: «За столом переговоров он обычно сохраняет вид невозмутимого спокойствия и тихой сосредоточенности изготовившейся к прыжку кошки, за которым скрывается огромное упорство в стремлении к поставленной цели. Если он и нарушает молчание, то одной-двумя фразами соленого, грубоватого и часто цепляющего юмора, что всегда дает большой эффект. Это в тех случаях, когда он в хорошем настроении. Тогда в нем явно ощущается теплота и готовность поддаться эмоциональному обращению. Когда же он не в духе, то становится мрачным и саркастическим, что требует от окружающих большой выдержки. В ведении текущих внешнеполитических дел – игре, в которой он редко допускает промахи, – Сталин выказывает ту же непоколебимую и жесткую целеустремленность, окрашенную подозрительностью... Короче говоря, Сталин со всеми его изъянами и неудачами – это «великий человек» в современном смысле этого термина. Он является непререкаемым правителем 180 миллионов советских граждан, которых он объединил в едином и успешном отпоре самой грозной военной машине всех времен».
Примечательно, что и Трумэн был доволен итогами конференции, хотя и по другим причинам. Он суммирует результаты Потсдама в радиообращении к нации и в мемуарах: «Среди них было создание Совета министров иностранных дел как консультативного органа пяти основных правительств. Другим важным соглашением стало определение формулы репараций... Мы пришли к компромиссу по границам Польши». Главной целью, напомню, Трумэн считал получение личного подтверждения Сталина на вступление СССР в войну с Японией. «Это я смог получить от Сталина в самый первый день конференции. Мы были в состоянии войны, и наши военные договоренности должны были оставаться в секрете, поэтому они были выпущены из официального коммюнике. Это было единственным секретом Потсдама».
Однако Трумэн, судя по мемуарам, предавался на обратном пути самым разным мыслям далеко не просоветского толка. «Хотя мы были крайне заинтересованы в вовлечении русских в войну против Японии, опыт Потсдама теперь укрепил мою убежденность в том, что я не должен давать русским и части контроля в Японии… По мере того, как я рефлексировал по поводу ситуации, я решил, что генерал Макартур получит полное командование и контроль после победы над Японией. Нам не будут мешать русские тактически игры на Тихом океане.
Сила – единственная вещь, которую русские понимают… Русские планировали завоевание мира».
Окончательный приказ об атомном ударе по Хиросиме Трумэн сделал на полпути из Европы в Америку на борту «Августы», следующей курсом на Ньюпорт.
Журнал "Стратегия Россия", сентябрь 2020 г.